Poetry by SERGEY CHERNYSHEV
Translated by Boris Kokotov
Sound
Flesh flickers: smoke, a man,
an anthill. Sound, blunt and hollow,
still palpitates inside the frozen head
and wags its tail — green, red, and yellow.
It’s empty. With a wanton tongue
hanging from a knotty muzzle
it leads someplace — so fabulously far —
where apples grow, where people
treat their dead as a name and face
but memory hides underneath, suspended.
Still deeper — a sound, an enormous wheel:
the wrists with fusing mouths.
Звук
Мерцает плоть. То дым, то человек,
то муравейник. Звук, почти напрасен,
переломляется в промерзшей голове
и бьет хвостом. Он зелен, жёлт и красен,
он пуст. С полуразумным языком,
свисающим из нарочитой морды,
ведущим в некий киев — далеко.
Там яблоки. Там думают на мертвых,
которым есть и имя и лицо,
под ним остановившаяся память,
а глубже — звук, большое колесо,
запястья с зарастающими ртами.
Salt
Winter Sun invokes love, but it doesn’t warm, only dazzles.
Breathing is like pulling a thread from the wooly sky.
Nuit’s dark-blue skin sweats — the salty stars droplets
glisten behind worn-out gauzy clouds.
Promises fly from lips like moths, like a frantic mica.
Our secrets are simple, they could be read
in any tongue as letters written with milky ink —
love songs, salty, corny, parceling petitions.
To you, subterranean, — a pale flower, a golden foil, a strand.
To you, towering, — whispers, signs, twinkles, a guilty mind.
To water — a coin for memory. To flame — all it can take
and bring to the sky as hot salt on dark-blue skin.
Соль
Солнце почти любовь — не греет еще, но уже слепит.
Вытянешь вдох свой — нитку из неба зимнего, шерстяного.
Темно-синяя кожа Нут с соленой испариной звезд горит
за старым марлевым облаком, вытертым до основы.
Обещанья вспархивают от губ — мотыльки, обезумевшая слюда.
Наши тайны просты, одинаковы на просвет, на любом прочитаны
языке — как на пламени письма с млечными строками, ябеды в никуда,
песенки про любовь, соляные, межевые, хлебные челобитные.
Вам, подземные — бледный цветок, золотая фольга да прядь.
Вам, высокие — шепот, буковки, огоньки, голова повинная.
Монета воде, чтобы вспомнила, а огню — то, что может взять
и отнести это небу, солью горячей на кожу синюю.
A Snake
The objective world is an intrusive dream
that doesn’t offer too many options.
A traveler caught by a train’s closing door
must choose between reality and the dark will
that regards reality as a huge iron snake
that eagerly gobbles people
then creeps, glowing in a narrow burrow,
horny, with a number on its forehead.
Змей
Так навязчиво снится реальный мир —
хоть ходи по врачам да суши прополис.
Пассажиру, закушенному дверьми,
выбирать между явью и тёмной волей,
для которой явь — лишь железный змей,
что, нажравшись живым, порционным людом,
проползает, светясь, в своей узкой тьме,
с номерком во лбу и рогами всюду.
The page
“Be ready to die,” a novel’s character says to his foe,
“you won’t see tomorrow, bitch, end of story.”
“I can’t see yesterday either,” the other laughs,
“your threats are empty, why should I care?”
And he closes the book. The character hides behind
a cardboard door holding a horrible razor
in the solemn silence of pages bound tight
and patiently waits for an unsuspecting reader.
Listen to the dreadful shrieks of those stuck
in heaven’s mud, to the whistling of ether,
to roaring tubes… Just be sure to refrain
from turning the page — he’ll gut you for real.
Cтраница
— Щас ты здохниш, — грозит литгерой врагу,
— Неувидиш ты завтрева, сволочь, зарежу тибя я силой.
— Ну и хуле, — смеется враг, — я и вчерашнего не смогу
увидать, а еще меня не было дольше, чем как-то было.
А потом закрывает книгу, и вечно стоит герой
за картонною дверкой с ножом из свинца и дыма,
в тишине слоящейся, нумерованой, туго про-
шитой нитками. Насмерть зачитанный, мнимый.
Слышишь, визг гимназиста, не ушедшего от небес,
продолжается свистом эфира, шипеньем смолы на коже,
песней диких селян, эгегеем в стальной трубе…
Перевернешь страницу и — опа! схлопочешь ножик.
progression
in the middle of a village a huge old folksong stands
pulling denizens closer, invading them, turning them
into its own extension — the next morning
you’ll find yourself stark naked,
whistling,
cavorting clumsily.
stepping into a tune is like falling through a polynia —
from under a sheet of ice you would see
the cloudy sky and dusky towns singing songs
of a yellow window
and lingering snow.
winter’s coming, and books will be burnt.
speak to me, cry with me, my fire, or just howl —
tinfoil hats were made for those
whose voices
would never be heard.
последовательность
огромная старая песня стоит посреди двора,
тащит людишек в рот, обгладывает им головы
изнутри, и селится там, а потом с утра
вдруг видишь себя — насвистывающего,
притоптывающего,
голого.
оступаясь в звук, как в крещенскую полынью,
смотришь из-подо льда и видишь ненастоящие
небо, облако, отвесные города, где из темноты поют
медленным снегом,
желтым окном светящимся.
наступает зима, будет легко от горящих книг.
поговори со мною, поплачь, мой огонь, повой.
вот и готова шапочка из фольги,
чтобы ни этот голос,
ни тот,
ни свой.
a lamp
in the darkness your skin glows like a handful of gems —
noisy, variegated strokes. the retina fills the voids
building 3D mosaic: flowers on a leaden limb,
venous, crepuscular, pale, weary.
darkness reveals a sea where abyssal beasts,
beautiful like a kick to the groin —
a phosphorescent slime, a samite — slowly swim,
shadows moving behind the semi-transparent veil.
If water expires the blue light will still be here
like the cyclops’ furious eye, squeezed in a fist
yet struggling to see, burning between the fingers…
that’s what we turned into, that’s who we are.
лампа
в темноте твоя кожа похожа на горсть самоцветов —
шум, цветные мазки, сетчатка достраивает провалы
в трехмерный витраж, в цветы, что горят на свинцовой ветви
венозной, тусклой, сумеречной, усталой.
темнота поднимает в нас море, где глубоководные существа
прекрасные, как удар промеж глаз поленом —
фосфоресцирующая слизь, парча — ходят, видимые едва
под прозрачной кожей тенями ацетиленовыми.
а устанет вода так останется синий свет нестерпимый,
словно яростный глаз великаний, стиснутый в кулаке,
все еще рвущийся видеть, горящий сквозь пальцы синим…
так вот мы чем оказались. так вот оказались кем.
scotoma
astronaut anastasios steps into wide open death —
bothersome calls, hoodoo vestments, a specular vizard —
begging to stay in his own body: the body is deft,
everything else just unreal. caught off guard
he embarks on a voyage, asshole, but it’s dark,
or it’s rather scotoma robbing him of the heaven
with precious birds — let the motherly cloud
float through you like a white dreamy tongue
floats through blindness: a birthday, a Xmas
(is it darkness or light, or nowhere to go?)
yet a window appears and the Sun slowly comes
to rest like a tree in the child’s milky bedroom.
скотома
космонавт анастасий выходит в открытую смерть.
позывной, колдовские одежды, зеркальная маска —
удержаться бы в теле, ведь тело и есть этот свет,
а тот свет — это все остальное. попавшему в сказку
брезжит странствие: вишь, дурачок, за околицей тьма,
а точнее скотома — за ней самоцветные птицы,
леденцовое, мятное небо — пусть облако-мать
проплывет сквозь тебя белой речью, которая снится
слепоту напролет: то рождение, то рождество,
за околицей тьма (или свет, или некуда деться) —
солнце входит в окно и лежит как поваленный ствол
в млечном водухе детской.
drifting
whether far away from here or long ago from now,
on the authentic Earth where dreams dwell next door,
where time is the king, where every cloud counts,
winter arrives and its humongous shadow falls
on the shores and hills of the inhabited world
blanketing them with pathetic snow. no escape
from claustrophobic chambers filled with abusive music,
from this continent — next morning it will be gone,
but so far a few birds are scuffling at a feeder
and the hills are pinky and the retreating fog
seems to know who you are, seems to call you
by your name — now you ought to remember…
дрейф
не то давно, не то далеко отсюда, на настоящей еще земле,
где даже сны всего лишь другая комната, музычка, материк,
где течет абсолютное время, где любому облаку тыща лет,
наступает зима, и огромная тень ее падает напрямик
на убогие взгорья, взморья, невсамаделишний и жалкий снег
обитаемой версии мира — забредешь, и не выйдешь вдруг
из сдуревшей музыки, комнат запертых (фройда на нас всех нет),
с материка, что вот-вот утонет, что уже утонул — к утру,
где в кормушке дерутся птички, где несколько белых гор
как положено розовеют, и туман, отступающий по реке
так же легко вспоминает кто ты, как и запамятовывал легко.
сейчас тебя назовут по имени, сейчас ты припомнишь,
double your tenfold alertness
today is painted hastily over yesterday —
but love peels off and rancor blackens the canvas.
lifeless light tries to break through
rising from last week’s snowy depth.
monsters are hanging around — just double
your tenfold alertness — you’ll sense them
building up in the corners of your eyes
like pus and blurring over the vision.
closing the eyes doesn’t help as sharp fins
rip eyelids from within, from the hot
red inside, and your day turns rectangular-black,
and birds rush to hide in the god’s beard,
and a manikin-spider flies in his dusty cobweb
trying to clutch at the air or at the smog
or at some prickly stars, so afraid to be burnt again
as if remembering how it feels to be dead.
десятикратно вниманье удвой
сегодняшний день написан поверх вчерашнего —
но на любви кукожится краска, но злоба обугливает всё.
мертвый блестящий свет пытается всплыть со страшной
глубины позапрошлой недели, где замерший снег косой.
воздух полон незримых уёбищ — ведь лишь удвой
десятикратно внимание да потерпи терпением –
и почувствуешь: демоны скапливаются как гной
в уголках твоих глаз, заливают всё поле зрения.
а закроешь глаза — по горячему красному полю тень
плавника, плавников, острых рыб ножевых, и вспороты
изнутри уже веки, и квадратен и чёрен день,
да бегут по воздуху птицы прятаться богу в бороду.
а человечек из пыли и паутинок летит с пауком внутри,
пытается зацепиться за воздух, за дым, за твердые
и колючие звездочки, и боится, что вновь сгорит,
словно взаправду помнит, как оно было мертвому.
Moskva on his back
1.
if I knew whose dream we are in I’d wake the scumbag up —
a little man mumbles, and you laugh and continue to watch
how a woman thrashes around tortured by her tight curlers,
how chariots chunter and a fakir pulls out the eye
from his toothless mouth, and the Earth slowly turns —
in its crown every leaf harbors a one-headed dream —
while you sleep in R’lyeh and whisper softly:
I’m just watching your dreams, I’m not interfering.
2.
falling asleep in R’lyeh yet dreaming in Moskva
inside the subway train that races through a riverbed,
through a simian churchyard, and the electric wind
dances furiously over wretched high-rises.
in the shadow of many Atlantises everyone
seems to be spotted, swallowed, and spewed,
but the Earth withers, then blooms, then withers again —
a migratory tree being kissed by relentless stars.
3.
go downstream into the subway icy winds,
fly as a number all along vaulted darkness
where reusable air thunders inside stony veins
like Cthulhu’s blood which as well as ours
is populated by blind inconspicuous beings
bustling about at hopeless pulse — here he is
on the subway chart full of tentacles,
Moskva on his back cut around the golden eye.
на спине у него москва
1.
знать бы кому мы такие снимся я гада бы разбудил
говорит человечек а ты смеясь изменяешь фокус
и смотришь как рвется женщина затянутая в бигуди
как рычат колесницы и факир вынимает око
из беззубого рта и поворачивается земля
всей огромною кроною где на каждом листе двуногий
одноголовый сон а ты спишь себе в р’льехе и шепчешь я
смотрю свои сны смотрю ничего не трогаю
2.
засыпаешь в р’льехе а фхтагн в ебенях в маскве
в голове поезда метро застенки речные русла
обезьяньи погосты и зарево пляшет на голове
электрический ветер над многобашенным захолустьем
в обитаемой тени двунадесяти атлантид любой
кажется уже виденным зохаванным и изблеванным
а земля облетает цветет а потом облетает вновь
перелетное дерево звездами зацелованное
3.
стекай числом в ледяные ветра метро,
летай там по сводчатым тьмам, где тухлый
многоразовый воздух гремит как кровь
в каменных венах — судя по схеме — ктулху.
кровь его как у всех — неприметные существа,
незрячие, крутящиеся в потоке
безнадежного пульса. а на спине москва
вырезана кругами вокруг золотого ока.
About the Author:

Sergey Chernyshev was born and raised in Kamchatka — the Far-Eastern region of Russia. He graduated from the Far Eastern State University where he’ve earned two degrees, first in Physics and later in Psychology. Currently he lives in St. Petersburg and works as a system administrator.
He began writing poetry at the beginning of 21 century and within a few years became well-known in the literary circles and on Internet. His poems frequently appear in periodicals and almanacs in Russia. He is co-author of the book “Vyhod v gorod” (“Going to downtown”) published in Moscow, 2006.
About the Translator:
.jpg)
Boris Kokotov was born in Moscow, Russia. Currently he lives in Baltimore. He writes poems and short stories in both Russian and English languages. His translations from German Romantics were published in the anthology “Vek Perevoda” (The Century of Translation) in Moscow. His translation of Louise Glück’s “The Wild Iris” was nominated for the best translation of the year 2012 in Russia.

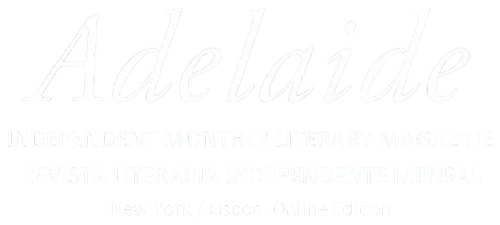

















.jpg)
